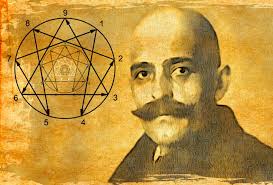Мистические тайны Гурджиева
Часть четвёртая: Интимные тайны Гурджиева
16 марта 1901 года
«Всё на том же извозчике Глеб Бокий доставил меня на Карельский перешеек, в Куоккала, и конспиративной дачей оказалась двухэтажная вилла, расположившаяся почти на самом берегу Финского залива, среди высоких сосен, валунов, выступивших огромными серыми пятнами из покрывала девственного снега. На стук вышла высокая седовласая женщина с аристократическим, надменным, как мне показалось, лицом; кутаясь в норковую накидку без рукавов, внимательно посмотрела на нас с Глебом и сказала, слегка поджав узкие губы:
— Здравствуйте, господа!
— Доброе утро, Анна Карловна! — Голос Бокия был полон почтения.— Вот привёз вам нового жильца — Арсений Николаевич Болотов, студент-географ, сейчас в академическом отпуске, интеллигент, пожалуй, замкнут, основное пристрастие — книги. Поживёт у вас месяц, может быть, полтора.— Незаметным жестом был погашен мой недоумённый взгляд.— Не сомневаюсь: вы понравитесь друг другу. Глеб сделал паузу, очевидно ожидая реакции хозяйки, но Анна Карловна молчала. – Словом, — заспешил Глеб Бокий, — прошу любить и жаловать!
— Проходите! — только и сказала «мадам» (так всё время, проведённое на «даче», про себя я называл Анну Карловну Миллер, вдову отставного генерала Г. И. Миллера. «Мадам» очень ей подходило).— Все комнаты свободны, выбирайте любую.
— Пожалуй, каминную,— сказал Бокий.— Уж больно там уютно.
— Пожалуйста! Я распоряжусь, чтобы Даша принес ла бельё. Через полчаса прошу в гостиную на завтрак.
«Чудеса какие-то,— даже несколько подавленно думал я — Ничего себе конспиративная дача революционной подпольной организации, касса которой «пуста»!..» Каминной оказалась небольшая мансардная комната на втором этаже с видом на Финский залив — нагромождение льдин у самого берега, среди них и дальше, на белой ледяной поверхности,— всё те же тёмные, даже чёрные валуны, и уходящая к серому туманному горизонту, густо-чёрная водная необъятность залива. Я стоял у окна, не в силах оторвать взгляда от сурового пейзажа, моря, идеально ровных стволов сосен.
— Нравится тебе сия келья? — ревниво спросил за моей спиной Глеб Бокий.
Я повернулся к «келье»: небольшой камин, у глухой стены напротив него — широкий диван, у второго окна — письменный стол с настольной лампой, стул перед ним на вращающейся ножке (как стул для рояля), два кресла по углам; на полу — ковёр с ярким замысловатым рисунком, в котором при желании можно было разглядеть каббалистические знаки. Ещё в одном углу на изящной этажерке с гнутыми ножками стоял гипсовый бюст Александра Сергеевича Пушкина, отличная копия с какой-то знаменитой скульптуры, автора которой я не знал.
— Очень нравится,— сказал я.— И что, такие камины во всех комнатах?
— Ну и пустяки тебя интересуют! — усмехнулся Глеб.— Нет. В остальных комнатах голландские печи. Только здесь это английское изобретение. Потому и «каминная». Это кабинет покойного хозяина. Есть ещё вопросы?
— Есть. Почему два месяца? Что я здесь буду делать?
— Отдыхать. Набираться сил. И вот что, Арсений Николаевич,— на моём новом имени и отчестве был сделан акцент.— Привыкай, дорогой товарищ, к этому прозвищу, только на него и откликайся. Под ним будешь работать в «деле Бадмаева».— Глеб в некотором раздумье прошёлся по комнате.— Но ломать голову о предстоящем не следует. Твоё время настанет. Над тем, что предстоит, мы работаем…
— Кто это «мы»? — перебил я.
— Мы! — жёстко сказал Бокий.— И тебе во всей этой питерской суете совсем не обязательно участвовать. Зря мелькать на людях не стоит. Появился один раз, представился товарищам — достаточно. Кругом полно полицейских ищеек и провокаторов. Теперь отдыхай, гуляй по окрестностям. Можешь, например, к Репиным наведаться.— Бокий вдруг остановил себя: — Впрочем, нет, не стоит! Не рекомендую! Хотя имей в виду: мы — некое студенческое общество, кружок, изучаем археологию, русскую историю. Для своих собраний и индивидуальных занятий снимаем эту дачу у генеральской вдовы Миллер. Она нас так и воспринимает. Анна Карловна особа вполне приемлемая: не любопытная, в душу не лезет, её любимое занятие — молчание. Всё думает о чём-то. Может быть, об умершем муже. Бывает же так! — В голосе Глеба прозвучало крайнее недоумение.— Ты в ней эту страсть к неразговорчивости поддерживай. Известно: молчание — золото.
В дверь деликатно постучали.
— Входите, Даша! — приветливо сказал Глеб.
В комнате появилась девушка лет восемнадцати со стопкой чистого белья в руках, в белом переднике, темноволосая, крепенькая; о таких в России говорят: кровь с молоком. Она была олицетворением молодости, свежести, здоровой жизни.
Не совсем умело сделав книксен, Даша сказала:
— Доброе утро, господа! Анна Карловна кличут вас чай кушать.
— Спасибо, Даша, идём! А ты, если можно, растопи камин. Арсений Николаевич человек у нас южный, кавказский. Мёрзнет на финских ветрах, его согреть надо.
— Слушаюсь!
Я встретил быстрый, игривый взгляд горничной; в нём не было и капли смущения, скорее — призыв.
Положив бельё на диван, Даша бесшумно ушла.
— Кроме Даши,— сказал Бокий,— у Анны Карловны в услужении Данила, громадный мужик, похожий на медведя. Он и сторож, и дворник, словом, в хозяйстве по всем мужским делам. Тип довольно мрачный, но что преотлично — глухой от рождения. Так что у тебя с ним контактов не будет. Словом, исходи из того, что он есть, и вроде бы его нету. А теперь пошли в гостиную, Анна Карловна женщина по-немецки пунктуальная, опозданий не любит.
Когда мы спускались по крутой винтовой лестнице, Глеб, идя сзади, шепнул мне как бы между прочим:
— А на Дашу обрати внимание. Безотказна.
Может быть, последнее слово мне померещилось? Я быстро обернулся, лицо Глеба Бокия было бесстрастно, отрешённо-безразлично и как бы подтверждало: «Да, померещилось».
В гостиной с четырьмя большими окнами, заставленной старинной, потемневшей от времени мебелью, стоял длинный стол под белой, сильно накрахмаленной скатертью; он был уже сервирован на три персоны, хозяйка сидела во главе его в кресле с высокой спинкой, мы с Глебом расположились справа и слева. Перед Анной Карловной исходил паром самовар в форме желудя, мне показалось, что он из серебра. Блюда подавала Даша и, уже в середине трапезы, ставя предо мной тарелку, быстро, мимолётно коснулась крепкой грудью моего плеча, явно намеренно. Волна тёмного, туманящего разум желания мгновенно и жарко прокатилась по моему телу.
Завтрак был обилен, изыскан и проходил в полном молчании. Только один раз, когда я довольно долго рассматривал большой портрет в тяжёлой инкрустированной раме — на нём был изображён уже старый, убелённый сединами генерал в парадном мундире, с роскошными золотыми погонами (художник выписал их особенно тщательно: на погоны падали лучи солнца), при всех орденах и регалиях; у старца было породистое, сильное, волевое лицо,— проследив за моим взглядом, Анна Карловна сказала:
— Мой покойный супруг, генерал в отставке Генрих Иванович Миллер.— И, будто ей возражал кто-то, сурово добавила: — Достойнейший был человек. Ему «Святого Георгия» сам батюшка царь Александр Николаевич вручал. Так-то, господа!
Мы с Глебом молчали, занятые крепким чаем с шарлоткой.
Прощаясь со мной, маленький партийный вождь сказал:
— Я… и, может быть, другие товарищи… будем к тебе наведываться. А ты, ещё раз подчеркиваю, отдыхай, набирайся сил — тебе многое предстоит.
Проводив Глеба до экипажа, я поднялся в свою комнату. В камине жарко пылали берёзовые поленья, постель на диване была расстелена. Я, раздевшись, лёг на диван под одеяло (спал я на конспиративной квартире отвратительно — в том питерском диване, который мне предоставили, обитали несметные стада жирных, наглых клопов) — и мгновенно сладко и крепко заснул.
Я прожил в Куоккала, на даче мадам Миллер, почти два месяца, до 12 мая 1901 года — этот день я не забуду никогда.
Время, проведённое на берегу Финского залива в обществе мадам, Даши и бессловесного Данилы, было благостным и ленивым, я познал русскую сладость ничегонеделанья. Главным моим занятием в то время были действительно книги. В доме Анны Карловны оказалась небольшая, но единственная в своём роде библиотека, собранная её покойным супругом. Она занимала уютную овальную комнату с окнами на три стороны света — восток, запад и юг, а северная стена представляла собой сплошной книжный стеллаж до самого потолка, и, чтобы добраться к верхним полкам, надо было карабкаться по специальной лесенке, на самом верху которой было нечто вроде стульчика: вынул интересующую тебя книгу, присел, облокотившись спиной о прохладные книжные переплёты, и читай себе сколько угодно. Наслаждение!
Библиотека же была уникальна вот в каком смысле: это были собрания всевозможных сочинений по всем отраслям военного дела, притом в самых разных жанрах: научные исследования, специальные описания всех родов русских войск, начиная со времён Ивана Грозного; история артиллерийского дела, пехотного, морского и так далее; военные мемуары и воспоминания как российских, так и зарубежных военачальников (последние в основном на немецком языке); многотомная история «Войны с Наполеоном»; очевидно, всё, что издавалось в России о Петре Первом — полководце и его войнах… До сих пор книги подобного рода ко мне попадали случайно, и вот представилась возможность пополнить своё образование в этой области человеческих знаний.
Первый месяц моего вынужденного затворничества я буквально пропадал в уютной библиотеке с удобной мягкой мебелью и столом-конторкой. Я совершенно забыл, почему я здесь, с какой целью,— думаю, это черта моей натуры: полностью уходить в чтение, в мир предмета, который изучаешь, и вся окружающая тебя повседневность как бы перестаёт существовать. А то, во что я погрузился… Войны, стратегические разработки сражений, различные виды вооружения, которые совершенствуются с каждым годом, расчёты стратегов сражений и создателей смертоносного оружия с единственной целью: как победить врага, как уничтожить максимально больше его «живой силы»… Неужели это вечный удел человечества: решать спорные вопросы войной и кровью армий? И может быть, впервые в жизни меня терзали подобные вопросы, на которые, пожалуй, у человечества нет ответов. Или имеется один и на все времена: так было, так есть, так будет…
Я заметил, что мадам прониклась ко мне уважением, наблюдая мою неуёмную страсть к библиотеке покойного мужа. Иногда она тихо входила в овальную комнату, говорила:
— Простите, господин Болотов, я вам не помешаю?
— Помилуйте, Анна Карловна! Когда я погружён в чтение, для меня вокруг всё отсутствует!
— И прекрасно,— в саркастической улыбке поджимала губы мадам.— Я тоже буду отсутствовать.— Я понимал, что сморозил глупость, бестактность, но было поздно: слово, как известно, не воробей…— Совсем недолго. Принесли «Женский журнал», а я привыкла читать здесь, в кресле… Его очень любил Генрих Иванович.
— Простите меня, Анна Карловна…
Мадам не отвечала, уже погружённая в чтение. Однако за обедом или ужином она, милостиво, но скупо улыбнувшись, спрашивала:
— И что же сегодня вы изучали в нашей библиотеке?
Я отвечал, и некоторое время — недолго — мы беседовали о книге, которая в тот день была предметом моего изучения.
— Напрасно вы, Арсений Николаевич, избрали географию,— говорила мадам.— Вы явно рождены для ратных подвигов. Вам бы учиться в Академии Генерального штаба.— Анна Карловна вздыхала.— Там Генрих Иванович заведовал кафедрой.
Глеб Бокий оказался прав: мы с хозяйкой «конспиративной дачи» прониклись симпатией друг к другу. Кстати, маленький партийный вождь (не знаю почему, но мне нравилось называть так Глеба Бокия про себя) приезжал два или три раза; пустяковые, ничего не значащие вопросы, разговоры ни о чём. Я понимал, что ему надо убедиться: я на месте, не сбежал. Он спешил, посматривая на часы, я рвался в своё уединение в овальную комнату, к своим книгам. Оба мы тяготились свиданием.
Последний раз Бокий появился в начале мая. На Карельском перешейке вступала в силу робкая северная весна: снег уже почти сошёл и лежал бело-серыми ноздреватыми пятнами с северной стороны деревьев и валунов. Цвели нежными красками цветы эфемеры (век их почти мгновенен), вот-вот лопнут почки на деревьях, возбуждённо, радостно кричали чайки. Мы с Бокием прогуливались по пешеходной дорожке, которая петляла между соснами, повторяя зигзаги Приморского шоссе, по которому вслед за нами медленно катился уже знакомый мне экипаж,— я вышел проводить своего опекуна. Остановившись, напряжённо посмотрев мне в глаза, Глеб сказал:
— Скоро.
Я не спросил: «Что — скоро?», хотя видел, что он ждет этого вопроса. Маленький партийный вождь повелительно махнул вознице рукой, тот сразу же подъехал.
— Жди! — раздражённо сказал Глеб Бокий и, не взглянув на меня, укатил.
Ровный, мягкий, гармоничный мир, возникший во мне в последнее время, разрушился. «Скоро…» Я, конечно, знал — что. Подойдя к самой кромке воды — на белый песок набегала еле заметная прозрачная и ленивая волна,— я побрёл в сторону Санкт-Петербурга, стараясь успокоить себя: «Так это же великолепно! Великолепно, что скоро кончится моё заключение. Впереди то, что мне предписано совершить ради счастливого будущего человечества…»
Но успокоения не приходило, и не было никакого желания, чтобы кончилось это сладостное заключение. Сладостное! Потому что в нем была ещё Даша. Она сама проявила инициативу. На третий или четвёртый вечер моего житья на «конспиративной даче» после ужина (Анна Карловна страдала отсутствием аппетита и обычно первой покидала столовую) мы остались у стола. Вернее, я что-то доедал, а Даша бесшумно собирала посуду. Когда за мадам закрылась дверь, выждав некоторое время, горничная подошла ко мне сзади, наклонилась и жарко прошептала, щекоча губами ухо:
— Арсений Николаевич, вы на ночь запираете свою дверь?
— Нет,— тут же шепотом ответил я, и во рту у меня мгновенно пересохло.
— Тогда… часов в двенадцать… Вы как? Согласные?
— Да, да! — Я вскочил со стула, резко повернулся, намереваясь тут же… Уж не знаю что…
Даша, выскользнув из моих рук, тихо рассмеялась и исчезла из гостиной.
Она пришла в начале первого — босиком, чтобы не было слышно шагов: её комнатка находилась на первом этаже. На Даше было платье, которое тут же упало с неё, и я увидел её обнажённой, прекрасной и чем-то пугающей, я ещё не мог понять чем. Она медленно приближалась ко мне на цыпочках, и на её лице блуждала странная, какая-то судорожная улыбка. Сейчас я могу определить её: та улыбка воплощала неконтролируемые вожделение, страсть, желание и похоть.
— Арсений Николаевич, вы не спите? — В её сдавленном шепоте слышалось лишь одно: скорее!
— Нет…
И Даша в буквальном смысле набросилась на меня. Её ласки были грубы и неумелы, я же изнемогал от сладострастия…
Когда всё кончилось — первый раз,— моя ночная гостья повернулась на спину, несколько минут лежала, замерев, часто дыша, и мне показалось, что я слышу удары её сердца. А может быть, то грохотало моё сердце. Наконец Даша сказала очень серьёзно:
— Спасибочки, Арсений Николаевич.
Я умилился и, повернувшись на бок, хотел её поцеловать, тоже в знак благодарности, но она довольно грубо остановила меня сильной крестьянской рукой:
— Погодите! Я ещё отдохну чуток.
Отдохнув, она с тем же неистовством накинулась на меня. Потом, после «отдыха», ещё и ещё раз… А я уже ждал, торопил: «Да скорее же! Неужели ты ещё не отдохнула?»
Даша начала приходить ко мне почти каждую ночь. Я ждал её, томился, изнемогал — эта совсем юная женщина полностью подчинила меня своему неистовому и, повторюсь, неумелому телу, и в этой неумелости было то, от чего я просто сходил с ума. И ещё одно меня изумляло и потрясало в ней: полное отсутствие стыдливости, робости. Но ни в коем случае в Даше не было развращённости, наоборот — была естественность и какая-то детская простота: всё она делала молча, сосредоточенно, только в моменты приближения оргазма у неё пугающе закатывались глаза под лоб, она могла до крови прикусить губу или, сотрясаясь в сладостных судорогах, прошептать: «Мамочка!.. »И всегда я слышал неизменное:
— Спасибочки, Арсений Николаевич.
В конце концов эта идиотская фраза стала раздражать меня, но я ничего не говорил Даше, я готов был стерпеть что угодно, лишь бы она была со мной, лишь бы в следующую ночь пришла опять. И ещё… У Даши был особый нежный запах, неповторимый и волнующий, он вызывал умиление, восторг. Я долго не мог определить его, дать ему название. Наконец я понял: Даша во время нашей близости пахла парным молоком.
Надо сказать, что она была в том, что происходило между нами, чрезвычайно хитра, осторожна, предусмотрительна. Нигде и никогда не оставалось следов «ночной любви» — Даша в этом смысле разработала целую технологию. И — я это чувствовал — мадам абсолютно ничего не подозревала. Дарья Милова (как-то за вечерним чаем, уже не помню, в какой связи, мне сообщила её фамилию Анна Карловна) — моя «волчица», так я иногда называл её, чрезвычайно дорожила своей работой горничной и кухарки у генеральши Миллер, которой она выказывала всяческое почтение. И надо было видеть, какой Даша была замкнуто-недоступной, стеснительно-испуганной, когда в гостиной мы оказывались втроём: мадам, я и она, прислуга. Если ей приходилось обращаться ко мне, Даша опускала взор долу, робела, на её щеках вспыхивал румянец смущения, и я видел, что Анна Карловна, явная пуританка по своим взглядам и убеждениям, такое поведение своей горничной одобряет. Если бы ей было известно, что творится по ночам в бывшем кабинете её покойного супруга, в каминной комнате!.. Но однажды произошло то, чем я был потрясён до глубины души и что понудило меня признаться себе: я совершенно не знаю и не понимаю Дарью Милову…
Оказывается, у Анны Карловны Миллер был свой выезд: рабочий сильный мерин Ворон, чёрный, как уголь, гордость Данилы, исправно выполнявший все лошадиные работы по хозяйству, раз в два месяца превращался в выездного рысака: вычищенный, с подстриженной гривой и завязанным в тугой узел хвостом, он, усилиями своего молчаливого хозяина, облачался в нарядную сбрую с бубенчиками, запрягался в довольно элегантный, хотя и старый, тарантас с крытым верхом и на резиновом ходу. И вот экипаж подавался к крыльцу. На облучке сидел торжественный Данила в припахивавшем нафталином суконном праздничном армяке и в короткой овчинной шубе нараспашку; на крыльце в приличной, старомодного покроя собольей шубе появлялась Анна Карловна,— наступал торжественный день: сановная генеральша уезжала в Санкт-Петербург делать визиты.
В середине апреля 1901 года день визитов выдался пасмурным, промозглым, с Финского залива дул сильный злой ветер, но погода ничего не могла отменить: посещения друзей в северной русской столице согласовывались заранее, а Анна Карловна Миллер была женщиной пунктуальной и педантичной,— после утреннего чая к крыльцу был подан экипаж. Я вышел проводить хозяйку дома на крыльцо; появилась и Даша, замкнутая и робкая.
— Возможно, я задержусь,— сказала мадам.— Ужин будет без меня, Дарья! Спроси у Арсения Николаевича, что он пожелает. Приготовь.
— Слушаюсь! — Был сделан неизменный книксен.
Ворон с места взял размашистой рысью — застоялся; вскоре перезвон колокольчиков на его сбруе растворился в полной тишине. И я услышал; как Даша, стоявшая рядом со мной, прошептала, скорее самой себе:
— Уехала, старая ведьма!
Меня поразили ненависть и пренебрежение, которыми был наполнен её голос. Впрочем, моя «волчица» могла быть совершенно уверена, что этих слов я не передам хозяйке.
— Ты не любишь Анну Карловну? — спросил я.
— Я люблю грецкие орехи.— Она схватила мою руку, цепко, жарко, властно.— И люблю, Арсений Николаевич, на вас верхом скакать! Идёмте!
И она увлекла меня в дом, быстро, задыхаясь, потащила на второй этаж, но не в каминную комнату, а в «покои барыни» — мы очутились в спальне Анны Карловны. И Даша уже в дверях стала спешно раздеваться. Уже обнажённая, яростная, она кинулась к большой деревянной кровати под балдахином из лёгкого белого шёлка, стала сбрасывать на пол одеяло, подушки, сдёрнула простыню и на матрац одним точным движением постелила большое махровое полотенце (я не заметил, как оно появилось у неё в руках; наверно, всё было приготовлено заранее). Затем Даша несколько раз, с явным удовольствием, прошлась «босыми ногами по скомканному одеялу, простыне, подушкам. И вдруг — может быть, на короткое, как вспышка ночной молнии, мгновение мне показалось, что это не Даша, а та, моя первая женщина в тибетском селении Талым,— те же пластичные хищные движения, изгиб талии, так же темно, страстно, призывно сверкают глаза, и волосы той же волной упали на лоб… Но нет, то было всего лишь секундное наваждение.
Даша упала на спину в кровать, расчётливо оказавшись на середине махрового полотенца, бесстыдно раскинула ноги и приказала:
— Скорее, Арсений Николаевич!..— Она задыхалась от вожделения.— Чего же… вы?..
На кровати мадам Даша отдалась мне, как всегда, засасывающе грубо, и её ( деревенская, что ли ) неумелость лишь усиливала сладострастие. Потом, через час или, может быть, через два, «волчица», отдохнув, рывком вскочила с кровати:
— Пошли на кухню. Я от голода умираю. А вы?
— Я тоже.
— Тогда — быстро! — И опять приказ, или, точнее, повеление, звучало в её голосе.— Не надо одеваться! Вот, завернитесь в простыню. Вроде этих… как их?.. Греки.
«Откуда она знает? – подумал я. – Про греков в белых тогах…»
На кухне мы ели холодную свинину с чёрным хлебом, хватая всё руками,— я, завернувшись в простыню, Даша голая, бесстыдная. Я смотрел на неё и ничего не мог поделать с собой: тёмное, мучительное желание просыпалось во мне.
— И вот кваском запейте! — «Ночная волчица» подала мне деревянный ковш с квасом.
Боже, каким он был вкусным! Сама она уже «запила» — из уголка её рта стекала бледно-коричневая струйка.
— А теперь…— Даша уже тащила меня к двери,— идёмте в гостиную. Я вам теянтер покажу!
—Что?
— Ну… Где артисты выступают, клоуны разные, мамзели пляшут.
— Театр, что ли?
— Да, теянтер. Пошли!
Я был приведён в гостиную и усажен в кресло.
— Сидите туточки! Я — шас!
И она умчалась, мелькнув розовым молодым телом. В голове у меня гудело, опять хотелось квасу, но возвращаться на кухню не было сил. Непонятно вроде бы почему, но я ждал чего-то ужасного. И предчувствие оправдалось…
И действительно… Даша вернулась с ворохом платьев самых разных фасонов и размеров, кофт, блузок и предметов женского нижнего белья. Всё это было брошено в угол, и сверху я увидел женские панталоны в оборочках, с аккуратной штопкой у пояса. Наверняка всё это было извлечено из шкафов или сундуков с туалетами Анны Карловны Миллер, и потом, вспоминая тот кошмарный день, я прежде всего видел эти старенькие панталоны со штопкой. И начался «теянтер»…
Моя «ночная волчица» напяливала на себя то одно платье, то другое и, гримасничая, хохоча, исполняла передо мной дикие, неистовые танцы, приговаривая:
— Барыня на балу танцует мянзурку! Барыня на рынке курей выбирает! Их превосходительство в церковь пошли, грехи замаливать.— Эта фраза сопровождалась не столько танцем, сколько злой пародией на старую женщину, пришедшую в храм Божий и с трудом опускающуюся на колени. А потом надо подниматься…— Ой, ой, ой! — кряхтела Даша в каком-то нелепом длинном наряде, в нём путались ноги, она падала.— Ой! Грехи наши тяжкие! Надысь мы осетрины обожрамшись!
И, надо сказать, в этой омерзительной импровизации звучали, хотя и искажённые злобой и насмешкой, интонации Анны Карловны. Горничная мадам Миллер наверняка обладала незаурядными артистическими способностями.
— А это наша барыня перед своим генералом выкобенивается.— Совершая самые непристойные движения, стоя имитируя половой акт, Даша начала сбрасывать с себя целый ворох одежды (и когда она всё это успела на себя нацепить?), постепенно обнажаясь,— щас будет бакенбарду свою в постельку затаскивать. Ой! Батюшки! Не получается!.. Не стоит у бакенбарды! Щас, щас мы его!..
И Даша, оставшись только в одних чёрных чулках и белых подвязках, исполнила передо мной нечто вроде канкана, напевая себе визгливым истерическим голосом:
Тра-та-та-та! Тра-та-та!
Села кошка под кота!..
А я, глядя на неё, ничего не соображал, уже весь сгорал лишь от одного чувства — испепеляющего желания. «Ночная волчица», исполняя свои дикие танцы и импровизации, наверно, наблюдала за мной: канкан прервался, как будто был остановлен невидимый сатанинский оркестр. Даша, замерев на мгновение, ринулась ко мне, сильным грубым рывком сдёрнула простыню, в которую я упрятал своё грешное тело; моя юная любовница схватила меня за руку, опять грубо рывком подняла с кресла, я очутился в её огненных объятиях, на долю секунды почувствовал запах парного молока, который источало её тело, и мы рухнули на ворох верхних туалетов и нижнего белья Анны Карловны Миллер.
Потом я часто думал (да и сейчас так думаю): наверно, именно о подобных «кухарках» говорил вождь мирового пролетариата Ульянов-Ленин, утверждая, что они могут управлять государством. И я бы нисколько не удивился, если б мне сказали, что Дарья Милова при большевиках попала во власть и сделала хорошую политическую карьеру или даже с другими, такими же, как она, «управляла» государством».
Георгий Иванович Гурджиев почти не ошибся. Дарья Васильевна Милова (1883—1954) сделала-таки впечатляющую карьеру: с 1907 года в партии большевиков; с 1918-го и до смерти — работник ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ: во время революции она — организатор структуры ЧOH (части особого назначения); заочная учёба на юридическом факультете Московского университета; во время Великой Отечественной войны — на фронтах в управлении НКВД-КГБ «Смерш» (Смерть шпионам!) в качестве прокурора; одна из обвинителей на нескольких «процессах» по Ленинградскому делу (1949— 1950); 1951 — 1953 годы — «старейший и заслуженный работник органов» — начальница женского лагеря особого назначения на Колыме № 041-прим. Б. После XX съезда КПСС и разоблачения «культа личности Сталина» в мае 1953 года арестована за «превышение власти, жестокое (в одном документе — «зверское») обращение с заключёнными и расхищение социалистической (лагерной) собственности», судима «своими», приговорена к высшей мере, расстреляна в феврале 1954 года — той же расстрельной командой, которой, дыша водочным перегаром, эта тучная, ещё сильная, розовощёкая старуха по старинке со сладострастием кричала: «По врагам народа и контре — пли!..».
Продолжение следует…
Дневник штудировал член русского географического общества (РГО) города Армавира Фролов Сергей